10/12/2018
Ирина Антонова в консерватории
20 марта 2018 года Президент Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Ирина Александровна Антонова посетила Московскую консерваторию. В день своего 96-летия она рассказала о том, как появился и развивался фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера».

Фото: РИА Новости
Часть I
До Декабрьских вечеров
Я не хочу, чтобы вы подумали, что я каким бы то ни было образом примазалась к имени великого Святослава Теофиловича, родившись с ним в один день. Видит бог, я в этом не виновата. Когда я узнала, что он тоже родился 20 марта, я попросила всех, включая Нину Львовну, его супругу, и ближний круг Святослава Теолофиловича, не говорить ему об этом. Просто потому, что не хотелось сказать «я тоже». Поэтому он ничего не знал. И узнал только за два года до своей кончины. Многие, кто с ним общался, знают, что он не любил говорить по телефону и почти никогда не говорил, но здесь он снял трубку и позвонил мне. Я никогда не слышала, чтобы он так выражался. Негодующе он сказал: «Что же это такое! Вы мне приносите цветы, подарки, поздравляете, я говорю: «да, спасибо», и на этом всё кончается! Как Вы могли утаить?» и так далее. Но этот взрыв негодования довольно быстро прошел и, конечно, не испортил наши отношения. Вот такое невероятное совпадение.

Фото: Денис Рылов
Для того, чтобы рассказать о том, как вообще пришла мысль создать «Декабрьские вечера» и как возникли взаимоотношения со Святославом Теофиловичем, я должна сказать несколько слов о своем детстве. Именно мои родители посвятили меня в музыку, в искусство. Моя мама родилась в Харькове и училась в Харьковской консерватории на фортепиано. А вот отец прямого отношения к музыке не имел, он был рабочим человеком, электриком, работал в Кронштадте на кораблях и уже потом получил инженерное образование в Петербурге. Но, как ни странно, у него был какой-то почти неправдоподобный интерес к музыке, к литературе и к искусству вообще. Уже будучи взрослой я узнала, что он познакомился с писателем Романовым, которому, видимо, понравился, и тот занимался его воспитанием, попутно рассказывая о своем интересе к искусству, о концертах Шаляпина. И потом, когда я немножко подросла, именно отец познакомил меня с музыкой и водил на концерты. Я помню, как он привёл меня на премьеру Секстета Шостаковича в Политехническом музее. Не могу сказать, что я тогда поняла эту музыку, но я была на этой премьере, слушала, видела Димитрия Димитриевича за фортепиано. Потом — я была уже достаточно взрослой — мы пришли на Пятую симфонию Шостаковича. На Седьмую уже пошла, конечно, сама. Премьера прошла в Ленинграде, но потом Самосуд приехал в Москву, и 29 марта 1942 года в 12 часов дня я была в Колонном зале Дома Союзов. Зал был полный. Когда уже симфония кончалась, мы увидели, как на сцену из-за кулисы выходит человек в военной форме. Но он старался не помешать концерту, он дал ему закончиться, а потом вышел и сказал, что в городе объявлена тревога, и попросил всех спуститься в метро. Я была с моей приятельницей и небрежно так сказала: «Ну, вот еще мы сейчас куда-то там полезем, пойдем ко мне домой». Жили мы относительно недалеко, на Покровском бульваре. Когда подходили к дому, нас все-таки схватили и посадили в убежище. Но самое главное — это, конечно, безумно сильное, потрясающее впечатление от симфонии. С тех пор, я не пропускала премьер симфоний Шостаковича в консерватории — 8-я, 9-я и так далее. Я обязательно приходила слушать эту музыку. Я очень много его слушала: оперетту, вокальные сочинения... Он очень захватывал меня, и самое главное, мне казалось, что я его понимаю.
Это был такой захлеб, потому что всё смешалось: война, холод, прекрасная музыка
А воспитана я была в основном на романтиках: на Шопене, Шуберте, Шумане. Мама очень любила их и играла дома, и эта музыка глубоко мне запала. Во время войны я попала на концерт Софроницкого в зале Чайковского, он играл Шопена. И сохранилось письмо к моему приятелю, который жил в это время в Томске — он не был на фронте, потому что у него было невероятно плохое зрение — –11. Я написала ему письмо, которое он мне потом отдал. Я описывала ему этот концерт в полном захлебе и с большой долей самоуверенности. Я писала, что вот наконец я всё поняла! Да, мы сидели в валенках, куртках, перчатках, потому что был нетопленный зал. Софроницкий вышел в концертном костюме и было видно, что он был в митенках, то есть пальчики были свободны, а здесь были перчатки, потому что очень холодно. И я писала, что теперь я поняла музыку Шопена, теперь я, наверное, понимаю вообще всю музыку. Это был такой захлеб, потому что всё вместе смешалось: война, холод, прекрасная музыка и то, что было прослышано еще от мамы. Был такой восторг открытия и понимания!
Я абсолютно уверена, что надо много слушать. Я говорю это из своего опыта, потому что у меня нет специального музыкального образования, поэтому надо много слушать и со временем приходит понимание. И современную музыку тоже слушать. Я помню концерт в Большом зале консерватории, когда Олег Каган играл Концерт Шнитке. Как раз на этом концерте я была со Святославом Теофиловичем, мы сидели в шестом ряду, а за нами сидело очень немного народу — Шнитке тогда еще не вошел в понимание. Потом, конечно, были концерты, на которые не достать билетов, но это происходило постепенно. Поэтому и молодым композиторам, и любого возраста людям, не надо сомневаться, что они не понимают — надо приходить и слушать.

Через отца у нас был еще один канал в музыку в виде Большого театр. Он дружил с директором Еленой Константиновной Малиновской, поэтому у нас всегда были билеты в директорскую ложу. Это было еще задолго до войны, тогда мы жили прямо рядом с мэрией в гостинице «Дрезден». Мне было лет 6-7 и я приходила в Большой ногами, а назад отец часто тащил меня на руках, потому что я засыпала. Я это говорю к тому, что огромную роль в приобщении к музыке играет семья. Надо приходить вместе с детьми, особенно, если вы сами любите музыку. Надо обязательно начинать вот эти ранние походы — это может быть музыкальный театр, консерватория, концертные залы... Путь в музыку через родных очень важен.
У папы были разные вкусы, и как-то он привел меня на «Бурю» Тихона Хренникова. Это была, наверное, интересная опера, но я тогда совсем не прониклась и долго его расспрашивала, как надо понимать ее, почему у Чайковского так, а у Тихона Николаевича по-другому, и он старался мне это как-то объяснить.
С 8 лет я жила вместе с отцом в Германии, он работал в посольстве. Оттуда у меня тоже остались сильные музыкальные впечатления. Музыка «Летучего Голландца» Вагнера произвела на меня огромное впечатление, и, конечно, сценически это было интересно. У меня до сих пор перед глазами эта декорация с Летучим голландцем, с его полетом. Вагнер музыкально совпал со мной, и, когда у меня появилась возможность, а появилась она всего лет пятнадцать назад, я трижды побывала в Байройте и просмотрела всё, кроме «Тристана и Изольды». Все три раза, когда я там была, этой оперы не было в программе. Я слушала ее потом в Большом театре, когда были гастроли. Вагнер производил очень большое впечатление. После войны я огорчилась, узнав, что его музыку запретили в Израиле. Но когда я была там в последний раз, узнала, что его снова играют.
Я много посещала консерваторию — и в довоенное время, и в военное — и моими первыми крупными пианистами, концерты которых я почти не пропускала, были Эмиль Гилельс, Яков Зак. Я была на всех концертах Гилельса. На самых последних он играл все концерты Бетховена. Как-то Рихтера спросили: «Почему Вы не играете Пятый концерт Бетховена?», и он ответил: «Потому что его превосходно играет Гилельс, лучше я не сыграю».
Я наблюдала как Рихтер слушал Евгения Кисина, когда он был еще совсем ребенком. Он играл первый концерт Шопена. Рихтер пришел вместе с Башметом — в это время Святослав Теофилович как раз ставил бриттеновскую постановку. Они сели в ряд и удивительно, что Кисин совершенно не испугался, он просто подошел к фортепиано и стал играть. Они даже переглянулись между собой, мол, какой независимый мальчик. Святослав Теофилович позже хорошо отозвался о Кисине.
Часть II
Декабрьские вечера
Началось все в 1949 году, когда Нина Львовна [Дорлиак] позвонила в музей и сказала, что Святослав Теофилович хотел бы у нас поиграть. Конечно, на это откликнулись с радостью, и он пришел к нам с Ниной Львовной — она пела, а он ей аккомпанировал. Видимо, музей понравился Святославу Теофиловичу, и он стал приходить очень часто. Нина Львовна обычно звонила накануне и говорила: «Святослав Теофилович хотел бы у вас поиграть». Мы, конечно, были счастливы, но чаще всего я была и испугана, потому что когда я спрашивала «когда», она мне говорила «завтра вечером».
И так продолжалось много лет. Примерно с 1961–1962-го года Святослав Теофилович иногда один, иногда два, иногда три раза в год просто играл у нас. Потом я поняла, что он играл многое из того, что через некоторое время появлялось в Большом зале консерватории. То есть считал нашу аудиторию вполне подходящей к проигрыванию готовящихся программ. Каждый раз он очень внимательно записывал в каком именно зале играл, даже переспрашивал: «Французское искусство какого века значит? Ага, значит XVII века, понятно».

Вы знаете, что Святослав Теофилович был не только музыкантом, но и художником. Он брал уроки у Фалька и тот говорил о его выдающемся художественном даровании. Сам он говорил о том, что в какой-то момент перед ним встал вопрос кем же ему все-таки быть — нельзя быть и художником, и музыкантом в самом высоком смысле этого слова. Но рисовал он хорошо и интересно, мы неоднократно показывали его работы. Каждый раз он относился к собственным выставкам с большим волнением.
В деревянном плафоне жили совы и во время концерта они периодически вздыхали
В 1981 году Святослав Теофилович пригласил меня на свой фестиваль в город Тур во Франции. Когда я приехала, оказалось, что этот фестиваль проходит зернохранилище примерно в ста километрах от города. Это был огромный деревянный сарай конца XIII – начала XIV века с земляным полом, в котором построили эстраду и расставили стулья. На фестиваль съезжались музыканты и гости из разных европейских городов. Там были и наши. Например, уже в то время играл Юрий Башмет. Эти концерты совершенно поразили меня звучанием в этом огромном зернохранилище и обстановкой. Там в деревянном плафоне жили совы и во время концерта они периодически вздыхали. Все улыбались и, конечно, это никому не мешало. Напротив, их оханье придавало какой-то особый аромат. Все это произвело очень большое впечатление.
После фестиваля был еще один концерт уже в самом городе Туре в оперном театре. Святослав Теофилович играл Трансцендентные этюды Листа, причем, что было необычно для меня, он очень волновался перед выходом на сцену. Но потом он был доволен концертом и тем, что у него, как говорится, получилось. Выйдя с концерта, мы шли по городу и вдруг неожиданно — ему характерны такие порывы — он снял свой концертный башмак и выкинул его вперед, и, немножко прихрамывая на ногу, на которой не было ботинка, он прошелся. Потом нашли ботинок, и он пошел дальше. Это был такой выброс напряжения и вместе с тем удовлетворения, что все получилось.
Помню и другой похожий случай. В конце одного из концертов «Декабрьских вечеров», когда музыканты вышли на поклон, новая слушательница в зале, не зная порядка, включила свет, а Святослав Теофилович не разрешал этого делать до определенного момента. Это привело его в такое неистовство, что он спрыгнул с довольно высокой эстрады и через центральный ряд выбежал из зала. Он выбежал не только из зала, но выбежал из музея и пошел к метро. В концертном костюме и без пальто. А ведь это зима, декабрь месяц. Его догнали и вернули. Для меня было ясно, что это выплеск огромного напряжения, внутренняя разрядка.
В музее нужно подумать о «созвучии» классических искусств — живописи, графики, скульптуры и музыки
Возвращаясь к фестивалю, помню один ужин. Я тогда спросила Святослава Теофиловича: «Вы делаете такой замечательный фестиваль здесь, в Туре, а почему Вы не объявите фестиваль в нашей стране?». И он как-то немножко по-детски развел руками и сказал: «А где там?». Я говорю: «Ну, хотя бы в нашем музее». Он внимательно посмотрел на меня и сказал: «А когда начнем — в этом году?». Я была ошеломлена.
Ирина Антонова: Конечно в этом году. А когда?
Святослав Рихтер: А Вы когда хотите?
И.А.: Когда Вы решите.
С.Р.: Давайте в декабре?
И.А.: А как мы назовем?
С.Р.: А Вы бы как назвали?
И.А.: «Дары Волхвов».
Я имела ввиду, что это неожиданная радость и поклон музею. Но все-таки это был 1981 год.
С.Р.: Ирина Александровна, нас не поймут.
И.А.: А что Вы предлагаете?
С.Р.: «Декабрьские вечера».
Так и образовался фестиваль. И первый был посвящен русской музыке XIX – начала XX века.

Первые «декабрьские» прошли без иностранных музыкантов — мы просто не успели никого пригласить. Зато среди исполнителей собралась такая «дружина Рихтера» — Леонид Коган, Юрий Башмет, Наталия Гутман, Виктор Третьяков, Василий Лобанов, Элисо Вирсаладзе. Одним словом, прекрасные музыканты. В дальнейшем к ним присоединились еще многие замечательные музыканты с мировым именем, например, Исаак Стерн. Участвовали музыканты из Соединенных Штатов, Франции, Италии, Испании и многих других стран.
Программы всегда предлагал Святослав Теофилович. Уже на первых наших переговорах он сказал: «Вы знаете, я играю везде — и в России, и за рубежом, и если я прихожу в музейное помещение, то я каким-то образом связываю себя с тем домом, в котором я буду выступать. Поэтому в музее нужно подумать о «созвучии» классических искусств — живописи, графики, скульптуры и музыки. Она существует, ведь я сам художник и музыкант, и я знаю об этом «созвучии». Придумайте, пожалуйста, выставки». И моя задача была делать выставки.
Обычно он называл музыкальную тему. Например, «Моцарт». Не так просто найти живописный материал, который бы соответствовал Моцарту. Иногда мы имели наглость ему что-то посоветовать. Как-то я ему сказала: «Было бы интересно показать двух композиторов, которые живут в разных странах и в разное время — это Бетховен и Рембрант, немец и голландец. Скажем, их камерное творчество. Оно более личное и такое особенное для каждого маэстро». Наш музей обладает почти полным собранием офортов Рембранта — всего около 240. Это гениальные страницы его творчества. Они редко показываются, потому что офорт создается на бумаге и больше двух месяцев не положено держать его на свету, потом надо на год, два, три помещать его обратно в хранилище. Святославу Теофиловичу эта идея очень понравилась. И масштаб Рембранта в его гениальных офортах и масштаб сонат Бетховена вместе ни у кого не вызывали удивления. Оказалось, что у них очень большое «созвучие» самого подхода к теме.
Святослав Теофилович очень хотел сделать, как он говорил, три Ш — Шуберта, Шумана, Шопена. И они имели большой успех. Рихтер настоял на том, чтобы гости сидели на сцене, прямо как в салоне. И к моему величайшему ужасу и огорчению, в самый последний момент, когда ему уже предстояло выйти на сцену, он вдруг мне сказал: «А вот ноты переворачивать сегодня будете мне Вы».
И.А.: То есть как это я?
С.Р.: А вот так — сядете и будете переворачивать.
И.А.: Но у меня нет платья, в котором я могла бы выйти на сцену.
Тут подошла Нина Львовна: «Ирина Александровна, возьмите мою шаль, этого будет достаточно». И они выпихнули меня на сцену. Было очень страшно. Тем не менее, я вдруг поняла, что он не даст мне опозорится. В общем, мы справились, я справилась.
Надо сказать, что Святослав Теофилович очень приветливый, гостеприимный, но вместе с тем у него бывали моменты погружения в себя и недовольства собой. Расскажу вам об одном случае, который во многом характеризует его как творческую личность. Я приехала в Париж по музейным делам и узнала, что Святослав Теофилович тоже в Париже, с гастролями. Мне уже приходилось быть на его концертах в Париже, да и не только в Париже. И я заранее позвонила Нине Львовне, чтобы она сказала ему, что я очень прошу билет на его концерт. Потом я приехала, подошла его помощница Милена и сказала, что Святослав Теофилович уже неделю как отменил концерты, и что это ужас, потому что нужно возвращать деньги. И он никого не принимает. Я только сказала: «Передайте, что я приехала и хочу увидеться». Он все же пригласил меня, но был в очень подавленном состоянии. Тем не менее, сказал: «Давайте спустимся вниз и что-нибудь поедим». Он был вялый и почти ничего не ел. Говорит: «Все не получается». Глубокое недовольство собой наверно свойственно таким очень крупным людям, которые понимают, как они могут и как у них сегодня получается. Когда мы вернулись, он неожиданно сказал: «Пожалуй, пойду позанимаюсь». «Святослав Теофилович, а можно посидеть послушать?». Вдруг он так ощетинился и сказал: «Что, Вы будете слушать, как я стираю свое грязное белье?». Но он все-таки пошел и стал заниматься. И, насколько я знаю, видимо он немного воспрял и даже какие-то концерты, которые отменял, смог восстановить.
Второй случай такой безграничной требовательности к себе произошел в Центральном доме работника искусств. Там проходил вечер, посвященный его любимой грузинской художнице. Все сидели в зале, выступало очень много людей искусства. Объявили Рихтера, бетховенскую сонату. Он выходит, играет и вот как-то не так играет. Гром аплодисментов, он спускается вниз, садится рядом со мной, я поворачиваюсь к нему, говорю чистосердечные слова, свидетельствующие о моем воодушевлении, а он спокойно так: «Да Бог с Вами, Вы же понимаете, что ничего не получилось». И меня поразило эта колоссальная требовательность к самому себе и ответственность перед слушателями.
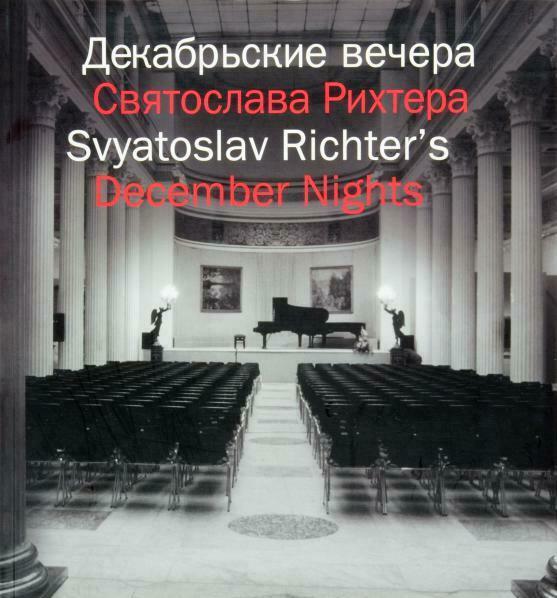
Обложка книги «Декабрьские вечера Святослава Рихтера»
Хочу сказать пару слов об аудитории, которая приходит на «Декабрьские вечера». Она очень изменилась в последнее время. Это лишь свидетельствует о том, что и мир, созданный Святославом Теофиловичем, изменился. Приходили близкие ему музыканты: Владимир Зива, которого он часто приглашал в качестве дирижера, любимая ему Галина Писаренко, которая выступала в поставленных им операх Бриттена. Кстати, оперу Бриттена впервые в Москве встречали как раз у нас в музее Пушкина. На концерты очень часто приходил Альфред Шнитке, Юрий Любимов, Олег Табаков, ушедший несколько дней тому назад, Канчели, Журавлёв, Смоктуновский, Солженицын, Уланова... Они украшали зал и конечно такая аудитория ему была очень приятна. Точно и правильно сказал о нем знаменитый пианист Гленн Гульд, когда назвал его великим коммуникатором, просветителем.
Часть III
Музейные дела
Недавно у нас была выставка «Воображаемый музей Андре Мальро». Андре Мальро — бывший министр культуры Франции. Он очень много занимался пластическими искусствами, его волновало само развитие искусства от древнейших времен до наших дней, и особенно — каковы пути современного искусства, каким оно будет. Мальро делал выставки, и даже написал книгу «Воображаемый музей». В нашей выставке соединились самые разные эпохи и направления: было древнеегипетское искусство, причём на прекрасных образцах — Берлинский музей дал нам изумительный портрет Нефертити, а вместе с тем были Эдуард Мане и Валентин Серов.
Расскажу один очень интересный случай, которой произошел на той выставке. Среди прочего мы показывали портрет Льва Николаевича Толстого работы Николая Ге. Надо сказать, что момент сосредоточенности Толстого за работой изумительно удался Ге. Тут на экскурсию привели детишек 6-10 лет. Они подошли к портрету Толстого и вдруг учительница спрашивает маленькую восьмилетнюю девочку: «Скажи пожалуйста, с кем бы ты сопоставила этот портрет Льва Николаевича?». Она подумала и сказала: «В древнеегипетском отделе вы показывали кошку богини Ра». Учительница очень удивилась и говорит: «Но как ты сравниваешь кошку с писателем? с человеком? Что ты находишь в них общего?». Девочка очень интересно ответила: «Вы знаете, они оба такие вдумчивые». Она почувствовала сосредоточенность в высшей степени. Потому что эта кошка, которая смотрит вдаль — божественное существо, и художник, который её создавал, чувствовал, что создает не просто кошку, а богиню. И Ге понимал, что создает «бога литературы».
А в этом году мы сделали выставку в виде сопоставления художников одного периода — передвижников и импрессионистов. Старшее поколение приучали к тому, что передвижники — это всё, а импрессионисты — ничего. В 1948-м году знаменитым постановлением нашего вождя Иосифа Виссарионовича, ликвидировали музей нового западного искусства как куртуазный, вредный, наносящие вред на воспитание советского человека. Этот великий музей современного искусства, которому нет равных, собрали два замечательных русских коллекционера — Сергей Иванович Щукин и Иван Абрамович Морозов. Но вот его уничтожили, часть оставили у нас. А через два месяца приехал директор Эрмитажа, очень уважаемый мною и любимый академик Иосиф Орбели. И хотя он был другом Сталина, и наш директор Меркулов был кавказский человек, друг, но сказать Иосифу Виссарионовичу «не делайте этого, не убивайте музей, не ликвидируйте», они не смогли.
Пластические искусства находятся в самом опасном состоянии, гораздо более опасном, чем литература, музыка или другие виды
Тем не менее мы сделали эту выставку «Передвижники и импрессионисты». И те, и те — замечательные великие художники второй половины XIX века, нового этапа в развитии искусств, который привел нас к сегодняшнему дню и который не закончился. Искусство будет — его не может не быть. В том числе пластические искусства, которые находятся в самом опасном состоянии, гораздо более опасном, чем литература, музыка или другие виды. Я в этом убеждена.
Публика удивлялась, когда мы показывали «Совесть. Иуда» Ге. Иуда стоит на дорожке, освещенный луной, а в глубине уводят Христа, которого он предал. Иуда изображен со спины, но его поза, лунный свет, который на него падает, показывает тот душевный переворот, который в нём происходит, и мы знаем, что вскорости он кончает с собой. А рядом мы повесили картину французского художника Гогена «Великий Будда». Буквально одно десятилетие отделяет эти картины. На ней изображен не Будда, а страшилище, у его ног гаитианские женщины, маленький ребёнок, собачка и её приплод. Но на заднем плане изображена Тайная вечеря, Иуда и Христос. Публика вздрагивала, не понимая как эти картины могут быть рядом. Но могут! Потому что одни и те же мысли пришли в головы разных художников в этой последней половине XIX века. Вагнер тогда же написал оперу «Гибель богов». Приходит новое время и уходит определённый пласт литературы, опирающейся на мифологию. Конечно, продолжали писать книги и о богах, и о мифологических героях, и изображали тех же антеев, и Геракла, но возникает обращение к реальности. И когда Гюстав Курбе — знаменитый французский художник, которого не пускали на официальные салоны — сделал свой павильон в Париже на выставке, он написал там «реализм». То есть пиши, говори и делай в искусстве то, что видишь перед тобой.
Импрессионисты разложили все возможное в цвете. Русские художники — не забудьте, что в 1961 году отменили крепостное право — ушли в переживания социальной действительности. Картины Перова, Репина, исторические полотна Сурикова — все построены на протесте. Будь то «Боярыня Морозова», будь то «Казнь стрельцов» и так далее. Безумно интересный период. Уже на пороге Пикассо, Матис и Владимир Серов с очень развернутой, в том числе и революционной тематикой, например, его картина «Солдатушки, бравы ребятушки». Все это мы показали на выставке. И соответственно показали самую разную музыку этого периода — французскую, русскую и прочее.
Искусство живёт и будет жить. Мы на своих «Декабрьских вечерах», продолжая идеи Святослава Теофиловича, обращаемся ко всему богатству музыкального и пластического мира. Я думаю, это то, что при всех неурядицах, неудовлетворенности жизни будет нас поддерживать в самые разные периоды и давать нам счастье и надежду на то, что все состоится. Спасибо.